"Сидя один раз с Суворовым наедине..."
(современники о Суворове)
Петр Иванович Багратион – генерал от инфантерии, «лучший ученик» Суворова
 Вот точные слова князя П. И. Багратиона; передаю их так, как только могу припомнить: «Я был, говорил к. П. И., почти не в силах держаться на линии боя; видел ясно, что если малейшее подкрепление прибудет к неприятельской линии против меня, — я не удержусь на месте. Люди мои до высочайшей степени ослабели в силах; число их уменьшалось каждую минуту от неприятельского огня. Жар в воздухе был ужасный. Последний запас моих гренадер пустился в бой, ружья худо стреляли, замки и полки у ружей запеклись накипью от пороха. По этой крайности я шибко понесся к Александру Васильевичу, и в минуту нашел его на несколько возвышенном месте в полулежащем положении, в одной рубашке. Китель был возле него, и он держал его за рукав. Я заметил, что у него был жаркий разговор с Розенбергом. Увидавши меня, Александр Васильевич сказал: «А!… Князь Петр!… Здравствуй Петр!»… и в то же мгновение обратился к Розенбергу, говорил: «Ваше Высокопревосходительство!… Андрей Григорьевич!… Поднимите этот камень, вот этот, что я лежу возле его»… Розенберг молчал. — «Не можете?? А??… Ну так стало, так же не можно, чтобы — помилуй Бог! — и русские отступали!… — Ступайте — помилуй Бог! — ступайте — держитесь крепко!… бейте!… гоните!… смотрите направо!… а иначе — помилуй Бог! — вам будет худо!… — мы русские!!… не Ундер-Куфт! не Мейсенеры!» — и Розенберг уехал.
Вот точные слова князя П. И. Багратиона; передаю их так, как только могу припомнить: «Я был, говорил к. П. И., почти не в силах держаться на линии боя; видел ясно, что если малейшее подкрепление прибудет к неприятельской линии против меня, — я не удержусь на месте. Люди мои до высочайшей степени ослабели в силах; число их уменьшалось каждую минуту от неприятельского огня. Жар в воздухе был ужасный. Последний запас моих гренадер пустился в бой, ружья худо стреляли, замки и полки у ружей запеклись накипью от пороха. По этой крайности я шибко понесся к Александру Васильевичу, и в минуту нашел его на несколько возвышенном месте в полулежащем положении, в одной рубашке. Китель был возле него, и он держал его за рукав. Я заметил, что у него был жаркий разговор с Розенбергом. Увидавши меня, Александр Васильевич сказал: «А!… Князь Петр!… Здравствуй Петр!»… и в то же мгновение обратился к Розенбергу, говорил: «Ваше Высокопревосходительство!… Андрей Григорьевич!… Поднимите этот камень, вот этот, что я лежу возле его»… Розенберг молчал. — «Не можете?? А??… Ну так стало, так же не можно, чтобы — помилуй Бог! — и русские отступали!… — Ступайте — помилуй Бог! — ступайте — держитесь крепко!… бейте!… гоните!… смотрите направо!… а иначе — помилуй Бог! — вам будет худо!… — мы русские!!… не Ундер-Куфт! не Мейсенеры!» — и Розенберг уехал.
«Ступайте шибко к Меласу», приказывал Александр Васильевич, одному из своего штаба; «скажите ему, чтобы он всеми силами в колоннах бил врага в средину, а запасы за собою 6лизко… шибко, прямо бил бы!… непременно — помилуй Бог — бил бы насквозь французов!… конница наблюдает; часть ее несется быстро вперед — рубить!… штыки!!… ты там будь — смотри!» И обратясь ко мне, спросил: «а?… что Петр?…как?…» — Худо, Ваше сиятельство! сказал я; силы убыли; ружья худо стреляют; неприятель силен; и… Александр Васильевич не дал мне досказать; начал говорить: «Помилуй Бог! — это не хорошо, князь Петр … Лошадь!» Сел и понесся к моей линии. Устремив все внимание на свою линию, я и не заметил, как он приказал, чтобы полк казаков и батальон егерей, ставший лишь из боя в запас на отдых, неслись шибко за нами. Мы въехали в мою линию. Боевые ратники увидали отца Александра Васильевича, — и оживились. Натиск на французов пошел сильнее, и ей-Богу — сделалось чудо!… Беглый огонь наш усилился; ружья стали стрелять: люди, от усталости едва переводившие дух, оживились; все воскресло, облеклось в новую силу! — Александр Васильевич велел ударить в барабаны сбор, и в одно мгновение ратники мои неслись из рассеянной линии в совокупность. «Князь Петр!» сказал Александр Васильевич, — «ударим!.. прогоним!.. это облегчит победу над врагом.» И вся линия моя по его воле шибко бросилась вперед. Французы сбиты с мест, опрокинуты штыками, кольями; немного их спаслось от смерти. Это облегчило меня на несколько времени. — Меня любили ратники, говорил князь П. И.; но отца Александра Васильевича боготворили: где он лишь являлся в бою, там Бог знает от чего и как — все оживало, все принимало бодрый дух, и победа была над врагом несомненна. — О! мы, все мы, русские, душою любили Александра Васильевича! — И австрийские солдаты полюбили его искренно: и они под его начальством были непобедимые герои».
// Из книги Я.И. Старкова «Рассказы старого воина о Суворове».
Денис Васильевич Давыдов (1784-1839) — генерал-лейтенант, поэт, герой Отечественной войны 1812 года
Из книги "Встреча с великим Суворовым"
«В одну ночь я услышал в нем шум и сумятицу. Выскочив из палатки, я увидел весь полк на конях и на лагерном месте одну только нашу палатку неснятою. Я бросился узнать причину этого неожиданного происшествия. Мне сказали, что Суворов только что приехал из Херсона в простой курьерской тележке и остановился в десяти верстах от нас, в лагере одного из полков, куда приказал прибыть всем прочим полкам на смотр и маневры.
 Я был очень молод, но уже говорил и мечтал только о Суворове. Можно вообразить взрыв моей радости! Впрочем, радость и любопытство овладели не одним мною. Я помню, что покойная мать моя и все жившие у нас родственники и знакомые, лакеи, кучера, повара и служанки, все, что было живого в доме и в селе, собиралось, спешило и бежало туда, где остановился Суворов, чтобы хоть раз в жизни взглянуть на любимого героя, на нашего боевого полубога. Заметим, что тогда еще не было ни побед его в Польше, ни побед его в Италии, ни победы его над самою природою на Альпах, этой отдельной пиндарической оды, заключившей грандиозную эпопею подвигов чудесного человека.
Я был очень молод, но уже говорил и мечтал только о Суворове. Можно вообразить взрыв моей радости! Впрочем, радость и любопытство овладели не одним мною. Я помню, что покойная мать моя и все жившие у нас родственники и знакомые, лакеи, кучера, повара и служанки, все, что было живого в доме и в селе, собиралось, спешило и бежало туда, где остановился Суворов, чтобы хоть раз в жизни взглянуть на любимого героя, на нашего боевого полубога. Заметим, что тогда еще не было ни побед его в Польше, ни побед его в Италии, ни победы его над самою природою на Альпах, этой отдельной пиндарической оды, заключившей грандиозную эпопею подвигов чудесного человека.
Вскоре мать моя и мы отправились вслед за полком и за любопытными и остановились в пустом лагере, потому что войска были уже на маневрах. Суворов приказал из каждого полка оставить по малочисленной команде для разбития палаток, а с прочими войсками начал действовать, и действовать по-своему: маневр кипел, подвигался и кончился в семнадцати верстах от лагерного места. К полудню войска возвратились. Отец мой, запыленный, усталый и окруженный своими офицерами, вошел к нам в палатку. Рассказы не умолкали. Анекдоты о Суворове, самые пролетные его слова, самые странности его передавались с восторгом из уст в уста. Противна была только требуемая им от конницы лишняя (как говорили тогда офицеры) быстрота в движениях и продолжительное преследование мнимого неприятеля, изнурявшее людей и лошадей. <…>
За полчаса до полночи меня с братом разбудили, чтобы видеть Суворова или, по крайней мере, слышать слова его, потому что ученье начиналось за час до рассвета, а в самую полночь, как нас уверяли, он выбежит нагой из своей палатки, ударит в ладоши и прокричит петухом: по этому сигналу трубачи затрубят генерал-марш, и войско станет седлать лошадей, ожидая сбора, чтобы садиться на них и строиться для выступления из лагеря. Но, невзирая на все внимание наше, мы не слыхали ни хлопанья в ладоши, ни крика петухом. Говорили потом, что он не только в ту ночь, но никогда, ни прежде, ни после, сего не делывал, и что все это была одна из выдумок и увеличение разных странностей, которые ему приписывали.
До рассвета войска выступили из лагеря, и мы, спустя час по их выступлении, поехали вслед за ними в коляске. Но угонишься ли за конницею, ведомою Суворовым? Бурные разливы ее всеминутно уходили от нас из виду, оставляя за собою один гул. Иногда между эскадронами, в облаках пыли, показывался кто-то скачущий в белой рубашке, и в любопытном народе, высыпавшем в поле для одного с нами предмета, вырывались крики: "Вот он, вот он! Это он, наш батюшка, граф Александр Васильевич!" Вот все, что мы видели и слышали. Наскучив, наконец, бесплодным старанием хотя однажды взглянуть на героя, мы возвратились в лагерь в надежде увидеть его при возвращении с маневров, которые, как нас уверяли, должны были окончиться ранее, чем накануне.
И подлинно, около десяти часов утра все зашумело вокруг нашей палатки и закричало: "Скачет, скачет!" Мы выбежали и увидели Суворова во ста саженях от нас, скачущего во всю прыть в лагерь и направляющегося мимо нашей палатки.
Я помню, что сердце мое упало, - как после упадало при встрече с любимой женщиной. Я весь был взор и внимание, весь был любопытство и восторг, и как теперь вижу толпу, составленную из четырех полковников, из корпусного штаба, адъютантов и ординарцев, и впереди толпы Суворова - на саврасом калмыцком коне, принадлежавшем моему отцу, в белой рубашке, в довольно узком полотняном нижнем платье, в сапогах вроде тоненьких ботфорт, и в легкой, маленькой солдатской каске формы того времени, подобно нынешним каскам гвардейских конно-гренадеров. На нем не было ни ленты, ни крестов, - это мне очень памятно, как и черты сухощавого лица его, покрытого морщинами, достойными наблюдения Лафатера, как и поднятые брови и несколько опущенные веки; все это, невзирая на детские лета, напечатлелось в моей памяти не менее его одежды <…>.
Когда он несся мимо нас, то любимый адъютант его, Тищенко, - человек совсем необразованный, но которого он перед всеми выставлял за своего наставника и как будто слушался его наставлений, - закричал ему: "Граф! что вы так скачете; посмотрите, вот дети Василья Денисовича". "Где они? где они?" - спросил он и, увидя нас, поворотил в нашу сторону, подскакал к нам и остановился. Мы подошли к нему ближе. Поздоровавшись с нами, он спросил у отца моего наши имена; подозвав нас к себе еще ближе, благословил нас весьма важно, протянул каждому из нас свою руку, которую мы поцеловали, и спросил меня: "Любишь ли ты солдат, друг мой?" Смелый и пылкий ребенок, я со всем порывом детского восторга мгновенно отвечал ему: "Я люблю графа Суворова; в нем все - и солдаты, и победа, и слава". - "О, Бог помилуй, какой удалой! - сказал он. - Это будет военный человек; я не умру, а он уже три сражения выиграет! А этот (указав на моего брата) пойдет по гражданской службе". И с этим словом вдруг поворотил лошадь, ударил ее нагайкою и поскакал к своей палатке».
Лев Николаевич Энгельгардт (1766-1836) — генерал, служивший под командованием Суворова и Румянцева-Задунайского, адъютант Потёмкина, герой Отечественной войны 1812 года
Из книги «Записки. 1766-1836»
«Будучи сам отважен до безрассудства, Суворов ценил это качество и в других. Генералы Дерфельден, Багратион, Милорадович и Кутузов были для него лучшими друзьями; всякий подвиг храбрости находил в Суворове первого и наиболее справедливого ценителя. При этом он не знал никакого различия в национальностях.
С особенным уважением и любовью он относился к генералу Милорадовичу, которому даже подарил свой миниатюрный портрет, сделанный искусным итальянским живописцем; известно, что даже коронованные особы с трудом выпрашивали его портреты. Милорадович, в свою очередь благоговевший перед Суворовым, вставил портрет в перстень и кругом написал четыре слова: «быстрота, штыки, победа, ура».
Увидев эту надпись, Суворов сказал: «Хорошо! Но не всё: между штыками и победой вставь слово «натиск». Вот вся тактика Суворова».
Об отношении к церковным обрядам
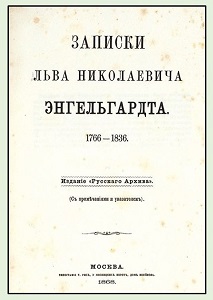 «Он молился очень усердно и всегда с земными поклонами, утром и вечером, по четверти часа и долее. Во время Великого поста в его комнатах всякий день отправлялась Божественная служба; а когда говел он, во всю неделю пил один чай, без хлеба. Во время Божественной службы у себя дома, как и в деревне, он всегда служил дьячком, зная церковную службу лучше многих причётников. О Святой неделе, отслушав заутреню и раннюю обедню в церкви, он становился в ряду духовенства и христосовался со всеми, кто бы ни был в церкви. Во всё это время его камердинеры стояли сзади его, с лукошками крашеных яиц, и Суворов каждому подавал яйцо, а сам ни от кого не брал. Во всю Святую неделю пасха и кулич не сходили с его стола.
«Он молился очень усердно и всегда с земными поклонами, утром и вечером, по четверти часа и долее. Во время Великого поста в его комнатах всякий день отправлялась Божественная служба; а когда говел он, во всю неделю пил один чай, без хлеба. Во время Божественной службы у себя дома, как и в деревне, он всегда служил дьячком, зная церковную службу лучше многих причётников. О Святой неделе, отслушав заутреню и раннюю обедню в церкви, он становился в ряду духовенства и христосовался со всеми, кто бы ни был в церкви. Во всё это время его камердинеры стояли сзади его, с лукошками крашеных яиц, и Суворов каждому подавал яйцо, а сам ни от кого не брал. Во всю Святую неделю пасха и кулич не сходили с его стола.
В Троицын день и Семик он праздновал по старинному русскому обычаю; обедывал всегда с гостями в роще под берёзками, украшенными разноцветными лентами, при пении певчих или песенников, и при хорах музыки.
После обеда Суворов сам играл на хороводах с девушками и с солдатами. В походах, во время святок, если случалось в городах, то всегда праздновал их шумно, приглашая множество гостей, забавлялся игрой в фанты и другие игры, и особенно очень любил игру: жив, жив курилка.
На масленнице он очень любил гречневые блины и катания с гор. А также на этой неделе давал балы, иногда раза три в неделю. Сам он на них присутствовал до обыкновенного своего часа сна, и когда тот наступал, он потихоньку уходил от гостей в спальню, давая гостям веселиться до утра.
Именины и день своего рождения никогда не праздновал, но всегда с большим почтением праздновал торжественные царские даты: в эти дни он бывал в церкви во всех орденах и во всём параде, и после обедни приглашал гостей, а иногда давал бал».
Луи Филипп Сегюр (1753—1830) — французский историк, посол Франции при дворе императрицы Екатерины II
Из книги «Записки графа Сегюра о пребывании его в России в царствование Екатерины II (1785-1789)»
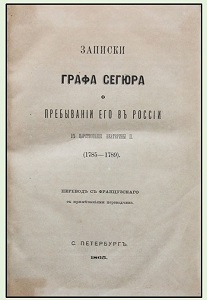 «Генерал Суворов в другом отношении возбуждал мое любопытство. Своею отчаянною храбростью, ловкостью и усердием, которое он возбуждал в солдатах, он умел отличиться и выслужиться, хотя был небогат, не знатного рода и не имел связей. Он брал чины саблею. Где предстояло опасное дело, трудный или отважный подвиг, начальники посылали Суворова. Но так как с первых шагов на пути славы он встретил соперников завистливых и сильных настолько, что они могли загородить ему дорогу, то и решился прикрыть свои дарования под личиною странности. Его подвиги были блистательны, мысли глубоки, действия быстры. Но в частной жизни, в обществе, в своих движениях, обращении и разговоре он являлся таким чудаком, даже можно сказать сумасбродом, что честолюбцы перестали бояться его, видели в нем полезное орудие для исполнения своих замыслов и не считали его способным, вредить и мешать им пользоваться почестями, весом и могуществом. Суворов, почтительный к своим начальникам, добрый к солдатам, был горд, даже невежлив и груб с равными себе. Не знавших его он поражал, закидывая их своими частыми и быстрыми вопросами, как будто делал им допрос, — так он знакомился с людьми. Ему неприятно было, когда приходили в замешательство; но он уважал тех, которые отвечали определенно, без запинок. Это я испытал, будучи еще в Петербурге: я понравился ему моими лаконическими ответами, и он не раз у меня обедывал во время краткого своего пребывания в столице. Помнится мне, что раз я спросил его, правда ли, что в походах он почти не спит, принуждая себя к тому даже без надобности, ложится не иначе как на солому и никогда не снимает сапог. «Да, — отвечал он, — я ненавижу лень. Чтобы не разоспаться, я держу в своей палатке петуха, и он беспрестанно будит меня; если я вздумаю иногда понежиться и полежать покойнее, то снимаю одну шпору». Когда ему дали чин фельдмаршала, то он в ознаменование этого события устроил престранную церемонию в присутствии своих солдат. Он велел поставить вдоль стены столько стульев, сколько было генералов старше его по службе, и, сняв мундир, начал перепрыгивать через каждый стул, как школьники, играющие в чехарду; показав этим, что он обогнал своих соперников, он надел фельдмаршальский мундир со всеми своими орденами и с важностью приказал священнику отслужить молебен. Рассказывают, что, получив от императора почетнейший из австрийских орденов, он также сам совершил свое посвящение в кавалеры его перед огромным зеркалом, с самыми странными причудами. Известно, что во время похода в Швейцарии, будучи принужден, по ошибке Корсакова, отступить от Массены, он приказал вырыть яму и, встав в нее, закричал солдатам, что если они хотят бежать и не станут грудью против неприятеля, то пусть прежде зароют его и попрут прах его ногами.
«Генерал Суворов в другом отношении возбуждал мое любопытство. Своею отчаянною храбростью, ловкостью и усердием, которое он возбуждал в солдатах, он умел отличиться и выслужиться, хотя был небогат, не знатного рода и не имел связей. Он брал чины саблею. Где предстояло опасное дело, трудный или отважный подвиг, начальники посылали Суворова. Но так как с первых шагов на пути славы он встретил соперников завистливых и сильных настолько, что они могли загородить ему дорогу, то и решился прикрыть свои дарования под личиною странности. Его подвиги были блистательны, мысли глубоки, действия быстры. Но в частной жизни, в обществе, в своих движениях, обращении и разговоре он являлся таким чудаком, даже можно сказать сумасбродом, что честолюбцы перестали бояться его, видели в нем полезное орудие для исполнения своих замыслов и не считали его способным, вредить и мешать им пользоваться почестями, весом и могуществом. Суворов, почтительный к своим начальникам, добрый к солдатам, был горд, даже невежлив и груб с равными себе. Не знавших его он поражал, закидывая их своими частыми и быстрыми вопросами, как будто делал им допрос, — так он знакомился с людьми. Ему неприятно было, когда приходили в замешательство; но он уважал тех, которые отвечали определенно, без запинок. Это я испытал, будучи еще в Петербурге: я понравился ему моими лаконическими ответами, и он не раз у меня обедывал во время краткого своего пребывания в столице. Помнится мне, что раз я спросил его, правда ли, что в походах он почти не спит, принуждая себя к тому даже без надобности, ложится не иначе как на солому и никогда не снимает сапог. «Да, — отвечал он, — я ненавижу лень. Чтобы не разоспаться, я держу в своей палатке петуха, и он беспрестанно будит меня; если я вздумаю иногда понежиться и полежать покойнее, то снимаю одну шпору». Когда ему дали чин фельдмаршала, то он в ознаменование этого события устроил престранную церемонию в присутствии своих солдат. Он велел поставить вдоль стены столько стульев, сколько было генералов старше его по службе, и, сняв мундир, начал перепрыгивать через каждый стул, как школьники, играющие в чехарду; показав этим, что он обогнал своих соперников, он надел фельдмаршальский мундир со всеми своими орденами и с важностью приказал священнику отслужить молебен. Рассказывают, что, получив от императора почетнейший из австрийских орденов, он также сам совершил свое посвящение в кавалеры его перед огромным зеркалом, с самыми странными причудами. Известно, что во время похода в Швейцарии, будучи принужден, по ошибке Корсакова, отступить от Массены, он приказал вырыть яму и, встав в нее, закричал солдатам, что если они хотят бежать и не станут грудью против неприятеля, то пусть прежде зароют его и попрут прах его ногами.
В бытность мою в России Суворов еще не достиг высших военных чинов. Мы видели в нем славного воина, генерала, отважного в армии и весьма странного при дворе. Когда Суворов встретился с Ламетом, человеком не слишком мягкого нрава, то имел с ним довольно забавный разговор, который я поэтому и привожу здесь. «Ваше отечество?» — спросил Суворов отрывисто. «Франция». — «Ваше звание?» — «Солдат». — «Ваш чин?» — «Полковник». — «Имя?» — «Александр Ламет». — «Хорошо». Ламет, не совсем довольный этим небольшим допросом, в свою очередь обратился к генералу, смотря на него пристально: «Какой вы нации?» — «Должно быть, русский». — «Ваше звание?» — «Солдат». — «Ваш чин?» — «Генерал», — «Имя?» — «Александр Суворов». — «Хорошо». Оба расхохотались и с тех пор были очень хороши между собою».
А. Ф. Ланжерон — французский эмигрант на русской службе, генерал от инфантерии, многие годы лично общался с Суворовым
Из работы «Русская армия в год смерти Екатерины П. Состав и устройство русской армии»
«Фельдмаршал Суворов — один из самых необыкновенных людей своего века. Он родился с геройскими качествами, необыкновенным умом и с ловкостью, превосходящею, быть может, и его способности, и ум. Суворов обладает самыми обширными познаниями, энергическим, никогда ни изменяющим себе характером и чрезмерным честолюбием. Это великий полководец и великий политик...»
«Фельдмаршал Суворов, знающий в совершенстве дух своего народа и являющийся действительно наиболее соответствующим этому духу генералом, собирает уже с апреля месяца свою армию, разделяет ее на три или четыре лагеря и заставляет ее проделывать действительно военные маневры: ночные переходы, атаки крепостей, ретраншаментов, нечаянное нападение на лагери и т. п. Он смотрит на дело, как настоящий полководец, упражняет, закаляет солдат, приучает их к огню, вселяет в них смелость и самолюбие и делает их непобедимыми. Полки его армии отличаются даже в России своею силою и своим воинственным видом».
// «Русская старина» - 1895 - т. 83 - С. 155.
Шарль Франсуа Филибер Массон де Бламон (1762—1807) — французский поэт и мемуарист, премьер-майор Екатеринославского гренадерского полка
Из книги «Секретные записки о России времени царствования Екатерины II и Павла I: Наблюдения француза, жившего при дворе, о придворных нравах, демонстрирующие незаурядную наблюдательность и осведомленность автора»
«Приезжающий в Россию иностранец, слыхавший громкое имя Суворова, желает увидеть этого героя. Ему указывают на маленького старика с худым и сморщенным лицом, каковой прыгает по апартаментам дворца на одной ножке, бегает и скачет по улицам в сопровождении толпы детей, которым он кидает яблоки, чтобы заставить их драться, и кричит самому себе: "Я — Суворов! я — Суворов!" Если иностранец и затруднится признать в этом старом сумасшедшем победителя турок и поляков, то его колебания исчезнут, когда он увидит его свирепые, угрюмые глаза, ужасные уста, на которых выступает пена, и поймет, что перед ним убийца жителей Праги. Суворов был бы всего-навсего смешным шутом, если бы не показал себя самым воинственным варваром. Это чудовище, которое заключает в теле обезьяны душу собаки и живодера. Аттила, его соотечественник и, вероятно, предок, не был ни столь удачлив, ни столь жесток. Его грубые и смешные манеры внушили солдатам слепое доверие: оно заменяет ему военные таланты, и оно же было истинной причиной его успехов. На него смотрели как на счастливого и отважного человека, который, выросши в военных лагерях, не знал двора и не мог заслонить фаворитов. После того как он отличился в качестве волонтера, он достиг, переходя от чина к чину, звания генерал-аншефа. Ему присуща врожденная свирепость, занимающая место храбрости: он льет кровь по инстинкту, подобно тигру. В армии он живет словно простой казак. Он приезжает ко двору, как скиф, не желая занимать другого помещения, кроме повозки, на которой прибыл. Рассказывать о его образе жизни значило бы передавать слухи о его сумасбродствах. И, конечно, если он не безумец, то из его качеств я отмечу в первую очередь способность к передразниванию. Но если это и сумасшествие, то варварское, в котором нет ничего забавного.
 |
 |
 |
Военное счастье, однако же, не всегда ему сопутствовало. При осаде Очакова, когда турки сделали обманную вылазку, он, несмотря на приказание Потемкина, пожелал их преследовать, надеясь вступить в город вместе с беглецами. Он попал под картечь, и его колонна была полностью разбита. Он кинулся на приступ Измаила, не зная даже плана крепости. А его деяния в Польше - это подвиги разбойника. Он поторопился туда, чтобы удовлетворить мстительность Екатерины и уничтожить остатки армии, уже разбитой Ферзеном и лишенной храброго Костюшко, который один составлял всю ее силу. Суворов, обнимавший жителей Варшавы и обещавший им милость возле трупов двадцати тысяч граждан всякого возраста и пола, походит на пресытившегося тигра, который играет с добычей на костях, оставшихся от его пиршества.
Его нравы были столь же своеобразны, сколь странен его ум. Он ложился спать в шесть часов вечера, поднимался в два часа пополуночи, бросался в холодную воду и заставлял выливать себе на голое тело по нескольку ведер. Обедал он в восемь часов. Его обед, как и завтрак, состоял из водки и нескольких грубых солдатских блюд: все содрогались от приглашения к подобному столу. Часто посреди пирушки один из его адъютантов поднимался, приближался к нему и запрещал ему есть. "По чьему приказанию?" — спрашивал Суворов. "По приказанию самого маршала Суворова", - отвечал адъютант. Суворов вставал, говоря: "Нужно ему повиноваться". Он заставлял таким образом приказывать себе от своего собственного имени идти на прогулку и многое другое.
Во время его пребывания в Варшаве толпа австрийских или прусских офицеров спешила увидеть этого оригинала. Прежде чем появиться перед ними, он осведомлялся, кого больше: если австрийцев, то он украшал себя портретом Иосифа II, выходил в приемную, впрыгивал, сдвинув ноги вместе, в круг этих офицеров и предлагал каждому из них лобызать этот портрет, повторяя: "Ваш император меня знает и любит". Если пруссаков было больше, он обходился орденом Черного Орла и так же паясничал. При дворе иногда видели, как он перебегал от одной дамы к другой и целовал, осеняя себя крестным знамением и преклоняя колена, портрет Екатерины, который они носили на груди. Екатерина как-то велела ему сказать, чтобы он вел себя приличнее.
Он набожен и суеверен. Он заставляет начальников произносить вслух молитву перед походом и дурно обходится с иностранными и ливонскими офицерами, которые не знают русских молитв.
Время от времени он посещал полевые лазареты, называя себя врачом. Он принуждал тех, кого находил очень больными, принять ревеню и соли; награждал ударами розог тех, кого находил только слабыми. Часто он выгонял всех вон из лазарета, говоря, что солдатам Суворова непозволительно хворать.
В своей армии он запретил все маневры, имеющие отношение к отступлению, говоря, что в нем никогда не будет нужды. Он сам учил солдат обращаться со штыком тремя различными способами. Когда он командовал: "Марш на поляков!" - солдат вонзал свой штык в чучело один раз, "Марш на пруссаков!" — два раза, "Марш на проклятых французов!" - солдат должен был нанести два удара, а на третий загнать штык поглубже в землю и поворачивать его. Его ненависть к французам была крайне сильна. В некоторых газетах видели письмо, которое он написал Шарету48. Он писал из Варшавы Екатерине и часто заканчивал такими словами: "Матушка, прикажи мне идти против французов!" Он действительно приближался уже через Галицию во главе 40 000 человек к французским границам в момент смерти Екатерины.
Часто он, голый, в одной сорочке, объезжал свой лагерь верхом на неоседланной казацкой лошади, а утром вместо того, чтобы приказать бить зорю или сбор, выходил из своей палатки и пел три раза петухом49: это было для армии сигналом пробуждения, а иногда - похода и сражения.
Если среди множества сумасбродств, которые он выкидывал, и плоских фраз, им произносимых, встречалась выходка своеобразная или поразительная, все повторяли ее и удивлялись ей, как вспышке гения. Этот жестокий человек имел, однако, некоторые добродетели: он обнаружил редкое бескорыстие и даже великодушие, то отказываясь от подарков Екатерины, то распределяя их среди тех, кто его окружал. Он убьет несчастного, который умоляет не лишать его жизни, но даст денег тому, кто просит у него милостыню, потому что он так же мало ценит золото, как человеческую кровь. Можно видеть, как почти в одно и то же мгновение он скрежещет зубами от ярости, как безумный, смеется и гримасничает, как обезьяна, или жалобно плачет, как старая баба.
Таков чересчур прославленный Суворов. Он рассорился с женой, не пожелал признать сына и предпочитал ему племянников, князей Горчаковых. А когда императрица сделала его сына гвардейским офицером, он сказал: Государыня желает, чтобы у меня был сын. В добрый час! Но я о нем ничего не знаю". У него была дочь, фрейлина Екатерины, отличавшаяся при дворе своим идиотизмом. Вернувшись в Петербург после отсутствия, продолжавшегося несколько лет, отец велел ей прийти в некоторый дом для свидания с ней. "А, папа, — вскричала она, -вы очень выросли с тех пор, как мы не видались". По-французски это было бы милым каламбуром, но по-русски это только грубая наивность, которая всех насмешила.
После взятия Варшавы он прибыл в Петербург, чтобы наслаждаться своей славой. И тогда этот скиф, который нигде не желал жить, кроме как в своей повозке, занял покои в Таврическом дворце и облачился в великолепный маршальский мундир, присланный ему Екатериной. Получив эту обнову, он гримасничал на тысячу ладов, ласкал ее, целовал, осенял ее крестным знамением и говорил, поднимая ее: «Ах, я не удивляюсь, что такой не дают маленькому Николаю Салтыкову: для него она слишком тяжела».
Известно, как и почему Павел отставил его по восшествии на престол. Ропот солдат вынудил его потом снова вызвать Суворова. Говорят, он намерен воспользоваться им как бичом для наказания французов».
Александр Столыпин — адъютант Суворова
О жизни полководца в Тулъчине
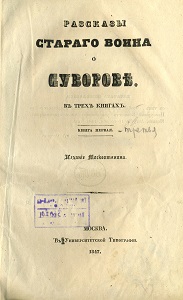 «Просыпался он в два часа пополуночи, окачивался холодною водою и обтирался простынею перед камином; потом пил чай и, призвав к себе повара, заказывал ему обед из 4-х или 6-ти кушаньев, которые подавались в маленьких горшочках4; потом занимался делами, и потом читал или писал на разных языках; обедал в 8 часов поутру; отобедав, ложился спать; в 4 часа пополудни — вечерняя заря; после зари, напившись чаю, отдавал приказания правителю канцелярии, генерал-адъютанту Д. Д. Мандрыке; в 10 часов ложился спать. Накануне праздников, в домовой походной церкви всегда бывал он у заутрени, а в самый праздник у обедни. К заутрени являлась рота, находившаяся в карауле; как офицеры, так и солдаты, кроме бывших на притинах, все долженствовали быт в церкви. По субботам, войскам, стоявшим в Тульчине, ученье и потом развод; перед разводом фельдмаршал всегда говорил солдатам поучение: «Солдат стоит стрелкой; четвертого вижу, пятого не вижу; солдат на походе равняется локтем; солдатский шаг — аршин, в захождении полтора; солдат стреляет редко, да метко; штыком колет крепко; пуля дура, штык молодец; пуля обмишулится, штык никогда; солдат бережет пулю на три дня. — Безбожные, окаянные французишки убили своего царя. Они дерутся колоннами и нам, братцы-ребята, должно учиться драться колоннами».
«Просыпался он в два часа пополуночи, окачивался холодною водою и обтирался простынею перед камином; потом пил чай и, призвав к себе повара, заказывал ему обед из 4-х или 6-ти кушаньев, которые подавались в маленьких горшочках4; потом занимался делами, и потом читал или писал на разных языках; обедал в 8 часов поутру; отобедав, ложился спать; в 4 часа пополудни — вечерняя заря; после зари, напившись чаю, отдавал приказания правителю канцелярии, генерал-адъютанту Д. Д. Мандрыке; в 10 часов ложился спать. Накануне праздников, в домовой походной церкви всегда бывал он у заутрени, а в самый праздник у обедни. К заутрени являлась рота, находившаяся в карауле; как офицеры, так и солдаты, кроме бывших на притинах, все долженствовали быт в церкви. По субботам, войскам, стоявшим в Тульчине, ученье и потом развод; перед разводом фельдмаршал всегда говорил солдатам поучение: «Солдат стоит стрелкой; четвертого вижу, пятого не вижу; солдат на походе равняется локтем; солдатский шаг — аршин, в захождении полтора; солдат стреляет редко, да метко; штыком колет крепко; пуля дура, штык молодец; пуля обмишулится, штык никогда; солдат бережет пулю на три дня. — Безбожные, окаянные французишки убили своего царя. Они дерутся колоннами и нам, братцы-ребята, должно учиться драться колоннами».
В первую субботу учились драться колоннами. Фельдмаршалу угодно было приказать мне стать с солдатским ружьем в первой шеренге пехотного полка; по окончании ученья пожаловал меня в унтер-офицеры. Во вторую субботу приказал мне стать в первой шеренге кавалерийского полка, и по окончании учения, сказал: «Жалую тебя в офицеры и беру к себе в адъютанты».
Приказания фельдмаршал отдавал мне самые лаконические, так что я часто должен был угадывать смысл их. Когда Смоленский драгунский полк входил в Тульчин, фельдмаршалу угодно было ехать за город смотреть его на марше; он ехал верхом на казацкой лошади, в галоп, с плетью в руке; обернувшись ко мне и указав плетью на полк, сказал: «э! а!» Я пустился скакать, и усмотрел, что третий баталион потерял дистанцию; причиною этого было замедление в ходу пушек. Я тотчас именем фельдмаршала приказал артиллерийскому офицеру с пушками податься вперед, и дистанция тем сохранилась; по возвращении моем фельдмаршал не сказал ни слова.
Однажды фельдмаршал, после обеда, вскричал: «мальчик!» Он иначе не звал меня, и я тотчас взошел; он умывался и спросил меня; «Завтра суббота?» — Так, Ваше сиятельство! — «Пушки не боялись бы лошадей, а лошади пушек!» Видя, что он замолчал и продолжал умываться, я вышел, послал ординарца позвать дежурных подполковников, по кавалерии Каменева, а по пехоте Тихановского, и передал мм словесно приказание фельдмаршала, слово в слово. Они не поняли и спрашивали меня: «что бы оно значило?» Вспомните, господа, первое учение колоннами, сказал я: пехота училась против кавалерии, а потом артиллерия; но кавалерия против артиллерии еще не училась; прикажите стрелять из пушек, и как скоро пушки загремят, я взойду в спальную посмотреть, есть ли в камине огонь. Ежели мы ошиблись, фельдмаршал тотчас меня спросит; что за пальба? Я ему доложу, как я понял его приказание и передал вам; но ежели мы поняли, то он, обернувшись ко мне, приставит два пальца к губам, и зачнет заниматься тем, чем занимался. Точно так и случилось. Как скоро пушки загремели, я взошел в спальную, фельдмаршал обернулся ко мне, и, приставив два пальца к губам. зачал заниматься по-прежнему; а я посмотрел в камине огонь и вышел вон.
Раз фельдмаршал приказал мне позвать начальника провиантской комиссии при армии, полковника Н. А. Дьякова. Когда он взошел, фельдмаршал сказал ему: «Н. А., все запасные магазины были бы у тебя наполнены, и все, что принадлежит к подвижным магазинам, было б в исправности; но ежели, Боже сохрани! где-либо провианта не достанет, то, ей-ей, на первой осине я тебя повешу!... Ты знаешь, друг мой, что я тебя люблю, и слово сдержу!»
// Из книги Я.И. Старкова «Рассказы старого воина о Суворове».